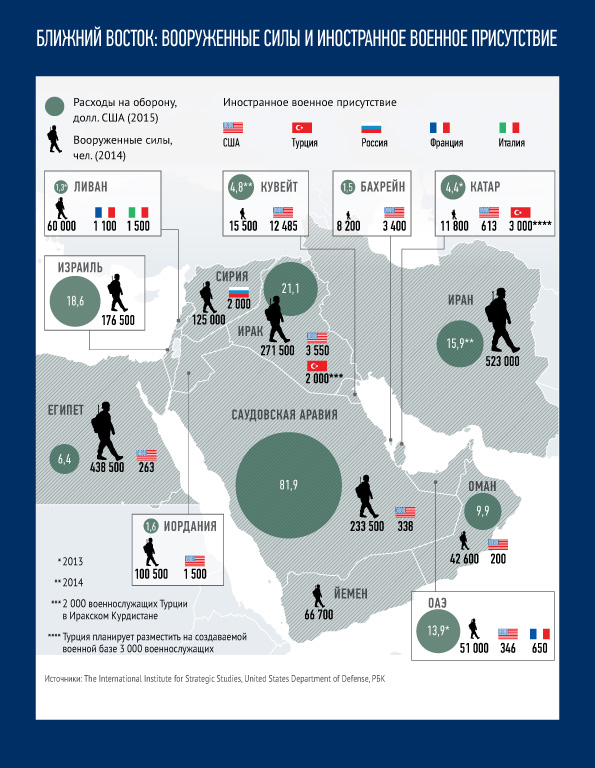| Ближний Восток: от конфликтов к стабильности |
| 09.05.16 15:26 |
|
Авторский коллектив Материал для обсуждения подготовлен по заказу Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» научным коллективом Института востоковедения РАН Руководитель группы: Научный коллектив: И.Д. Звягельская, В.А. Кузнецов, Н.В. Сухов
I. Пятилетка турбулентности Массовые протесты, прокатившиеся волной по арабским странам, дали импульс «тектоническому сдвигу» на Ближнем Востоке. Происходит тотальное переустройство всей системы культурных, социальных, экономических и политических отношений. Вызвано оно, в основном, внутренними причинами – как политэкономическими, так и культурно-цивилизационными, но очевидна и связь с наиболее тревожными трендами глобального развития. Утрата управляемости международными процессами, возвращение в них фактора силы, повышение роли случайности, укрепление мировой периферии, кризис национальных государств и идентичностей находят здесь концентрированное выражение. В некоторых странах происходит расширение политического участия, модернизация политических систем, частично обновляются элиты; появилось осознание необходимости реформ и поиска эффективных ответов на новые угрозы и вызовы. Однако более значимы для мира на сегодняшний день оказались ослабление, а иногда и разрушение государственности ряда стран, гражданские войны в Ливии, Йемене, Сирии и Ираке, сотни тысячи жертв и миллионы беженцев, гуманитарные катастрофы, экспансия терроризма, укрепление «джихадистской альтернативы», превратившейся в угрозу глобального масштаба. Общий итог трансформации региона пока что отрицательный. Переформатирование региональной системы международных отношений обернулось разрушением старых и формированием новых альянсов. Ключевую роль играют негосударственные акторы, иногда преследующие собственные цели, а иногда выполняющие роль агентов внешних сил; разрушенные гражданскими войнами страны превратились в арены «войн по поручению». Ни на одном из уровней трансформационный процесс еще не только не завершен, но и не достиг апогея. Контуры будущего устройства региона все еще не просматриваются, да и говорить о полном демонтаже старой системы едва ли приходится. Значительная часть государств региона пока демонстрирует высокую адаптивность к меняющимся условиям. Смогут ли они создать крепкий фундамент нового Ближнего Востока или сами завтра будут ввергнуты в круговорот турбулентности, неизвестно. Россия убеждена, что всемерное укрепление их институтов сегодня становится важнейшей задачей, столь же важной, как и урегулирование текущих конфликтов. Операция российских ВКС в Сирии в этих условиях способствовала изменению внутренних балансов и открыла возможности для поиска прорывных подходов в контексте активизации политического урегулирования. Это неожиданное решение не было мотивировано задачами укрепления российского влияния в регионе. В его основе – озабоченность нарастанием разрушительных тенденций поблизости от российских границ, апофеозом насилия и терроризма, агонией государственности. II. Bye-bye Сайкс–Пико: эффективное управление Колоссальный рост насилия на значительных территориях в Сирии и Ираке, в Ливии и Йемене, его превращение в основу всей системы социально-политических отношений связан с фрагментацией обществ, кризисом идентичностей, актуализацией старых и появлением новых линий социальных разломов. Политическая же причина – разрушение системы Сайкс–Пико. Эта система, сложившаяся во времена колониализма, базировалась на сочетании западной модели управления с частично модернизированной, но в целом традиционной социальной структурой и многоукладной экономикой. Это неизменно приводило к сохранению традиционных идентичностей, консервации социальных противоречий и, в конечном счете, к постепенному усугублению разделенности обществ. Сайкс–Пико изначально было бомбой с часовым механизмом, остановить тиканье которого за сто лет не удалось. Социальная фрагментация могла до поры до времени сдерживаться сильным государственным аппаратом, однако дисбалансы институционального развития постепенно снижали устойчивость к вызовам. Сильные институты исполнительной власти и развитая технократическая бюрократия сочетались с эксклюзивным положением силовых структур и слабыми органами судебной и законодательной власти, почти полным отсутствием гражданского общества, общей отчужденностью граждан от политического процесса. Результатом становилась неприспособленность политических систем к расширению политического участия. Происходящее в регионе, вне зависимости от того, осуществляется ли оно в институциональных рамках, как в Египте, Тунисе или Марокко, или же вне их – как в Ливии, вовлекает в политику традиционные слои общества. Это соответственно означает бóльшую или меньшую традиционализацию политических отношений. В случаях, когда процесс идет по «мягкому» сценарию – без разрушения институтов,– он может в будущем обернуться повышением эффективности государства. Когда же сценарий жесткий, как в Ливии, Сирии или Йемене, расширение политического участия оборачивается разрушением или, по меньшей мере, деградацией государственности, политическая сфера обрекается на полную традиционализацию. В зависимости от конкретной ситуации она может оборачиваться ростом трайбализма (как в Ливии), этноконфессионализма (как в Сирии) или же того и другого вместе (как в Йемене и Ираке). Еще одним следствием ослабления институтов становится рост личностного фактора. Политические лидеры зачастую превращаются в единственных реальных носителей суверенитета, способных принимать решения в чрезвычайных обстоятельствах, это только усугубляет непредсказуемость ситуации. То же относится и к руководителям негосударственных акторов – политических движений, партий, этноконфессиональных общин, племенным шейхам и т.д. Персональные амбиции, своеобразное восприятие реальности, борьба за власть и доступ к финансовым ресурсам, стремление обеспечить собственную безопасность начинают играть определяющую роль при выработке политической стратегии. Параллельное укрепление институтов государственной власти и гражданского общества, повышение эффективности управления становятся насущной необходимостью для всех стран региона, единственной возможностью обеспечения их безопасности в дальнейшем. Как это делать, какую роль в этих процессах способно сыграть международное сообщество, остается вопросом. Американский подход, акцентировавший внимание на «поддержке демократии», и европейский, сосредоточенный на защите прав человека, на деле обычно сводятся к поддержке оппозиционных сил. В то же время укрепление государственности зачастую оборачивается простой защитой правящих режимов. Возможно, ключевую роль должны играть не отдельные внерегиональные акторы, а международные организации, прежде всего, ООН, и такие сообщества, как БРИКС. III. Bye-bye Сайкс–Пико: перекройка карт Система Сайкс–Пико имеет и иное измерение. Она представляла собой попытку формирования национальных государств на территориях стран, переживших двойную колонизацию – османскую и европейскую, и исторически раздробленных. Сами границы новых государств формировались, если и не вполне произвольно, то зачастую под воздействием случайных факторов, результатом стал присущий арабскому политическому сознанию дефицит легитимности государств. Существование ни одного из них никогда не рассматривалось как абсолютно естественное и так или иначе в любой момент могло быть поставлено под сомнение. Вместе с тем, регион просуществовал в этих границах почти сто лет, за которые были сформированы новые идентичности, возникли специфические политические культуры и была построена социально-экономическая инфраструктура в рамках национальных государств. И сегодняшней альтернативой устоявшимся границам является хаос. Особую проблему составляют принципиальные расхождения нарративов Израиля, Ирана, Саудовской Аравии и других игроков, включая внерегиональных и негосударственных акторов. «Войны нарративов» ведут к росту региональной конфликтности, лишают возможности наладить диалог между основными акторами, выработать общий образ будущего Ближнего Востока. Впрочем, и глобальные игроки так и не сформулировали стратегическое видение будущего региона, без которого невозможно затормозить негативные процессы. А оно может быть весьма различным. Уже сейчас высказываются идеи из категории «безумных», которые в отсутствии альтернатив смогут помочь скрепить расползающуюся ближневосточную ткань. Например, может ли на место унитарных государств (если сохранить их невозможно) прийти децентрализация по этнорелигиозному принципу? Не будет ли она означать откат к архаике и окончательный отказ от национального государства, предполагающего наличие общей для всех этнорелигиозных групп идентичности и ценностей? Какая степень децентрализации в принципе допустима? Не может ли федерализация в условиях слабости институтов стать закамуфлированной формой развала государств? Или имеет смысл обратиться к концепциям демократического конфедерализма и региональной интеграции на негосударственном уровне? Возможно, стабильность обеспечит полное изменение политических систем в наиболее разрушенных войнами странах через установление в них монархического правления, ограниченного конституцией? IV. Экономическая реабилитация – миссия выполнима? В описанных условиях особенную роль начинают играть экономические проблемы развития региона, многие – системного характера. Так, велики риски для продовольственной безопасности, постоянно действующими конфликтогенными факторами стали засухи, эрозия почв и особенно дефицит воды. В предстоящие 30 лет разрыв между потребностью в воде и возобновляемыми водными ресурсами превысит 51%. Однако едва ли не большее влияние на ситуацию в регионе оказывают трудности, вызванные текущими политическими потрясениями, войнами, терроризмом. В прошлом мае МВФ оценивал дефицит платежного баланса Ливии на 2015 г. на уровне 52,8% ВВП, а бюджета – 68,2% ВВП, Ирака соответственно 9,6% и 10%. Только для восстановления разрушенного жилищного фонда и инфраструктуры Сирии понадобятся сотни миллиардов долларов и несколько лет упорной работы. Неизвестно, захотят ли и смогут ли арабские государства-нефтеэкспортеры сыграть ключевую роль в экономической реабилитации государств, переживших гражданские войны. Одной из причин потенциальных трудностей является снижение доходов стран-нефтеэкспортеров. Так, МВФ в мае 2015 г. оценивал потери валютных доходов от экспорта нефти стран ССАГПЗ на основе сравнения с потенциальной экспортной выручкой в ценах октября 2014 г. в 287 млрд долларов (21% общего ВВП стран ССАГПЗ). В октябре 2015 г. МВФ прогнозировал образование дефицита государственного бюджета Саудовской Аравии до 21,6% ВВП за 2015 г. и 19,6% на 2016 г. Отдельная проблема – преодоление экономического кризиса государствами-нефтеимпортерами, относительно спокойно пережившими политическую трансформацию, прежде всего, Египтом и Тунисом. Теракты в обеих странах уже привели к обрушению туристического сектора и сокращению инвестиций. В 2016 г. в Тунисе это уже обернулось новой волной политической дестабилизации. Таким образом, еще одной насущной задачей для мирового сообщества становится разработка дорожной карты экономической реабилитации ближневосточных государств в постконфликтный период и мер обеспечения экономической безопасности региона. Привлечение Китая и стран БРИКС к экономическому обновлению ослабленных ближневосточных государств, созданию новых современных производств, где происходит перемалывание традиционной массы молодежи, возможно, открыло бы новые возможности. Стоит обдумать и перспективы создания собственно региональных институтов, укрепляющих экономическую взаимозависимость как на базе уже существующих структур ОИС, ЛАГ и ССАГПЗ, так и через создание новых. Кроме того, рассмотреть вариант с интеграцией отдельных государств в региональные объединения сопредельных регионов, включая структуры ШОС. Желательно расширить программы создания зон свободной торговли в приграничных районах, тем самым увеличив степень доверия. Наконец, существуют ли возможности для выработки глобальными акторами ближневосточного плана Маршалла? V. Против терроризма – вместе и порознь Важнейшим фактором подрыва стабильности и одновременно его следствием стала активизация негосударственных акторов, которые лишили официальные государственные структуры монополии на насилие. Всевозможные этнические, политические конфессиональные и племенные группировки укрепились на обломках государственности и одновременно продолжали ее ослаблять. Среди тех, кто под различными лозунгами использовал террористические методы, особое место заняла ДАИШ. Ни одна из террористических группировок не могла соперничать с ней в вопросах идеологического, пропагандистского, финансового и военного обеспечения. Более того, ослабление государственности сделало особенно привлекательной идею халифата, выдвинутую его идеологами, в рамках которой могли быть даны ответы на многие вызовы современности. ДАИШ превратило архаичные представления в точку опоры, в которой население особенно нуждается в условиях неопределенности, сформулировало стратегические цели, дало ощущение миссии и избранности тем, кто в этом особенно нуждался. Идейная привлекательность, а также мощное территориальное присутствие в Ираке и Сирии дали ДАИШ возможность выйти за рамки обычной террористической организации, как правило, с ограниченным числом боевиков, отсутствием собственной территориальной базы и прямой поддержки в тех частях мира, где она не ведет своей разрушительной деятельности. В глобализованном мире вызов ДАИШ стал восприниматься как универсальная угроза, несмотря на ее цивилизационную ограниченность. Терроризм, использующий огромные технологические возможности современного мира, представляет собой наиболее серьезную угрозу миру и стабильности. Он сравнительно легко преодолевает границы, несет разрушения и страх. Главной задачей террористических организаций на Ближнем Востоке является нанесение ударов по всему, что не вписывается в их архаичную концепцию общественных связей и взаимоотношений. Особая чувствительность России к экстремизму и терроризму объясняется тем, что для нее эти явления имеют внутриполитическое измерение. На протяжении своей истории страна неоднократно сталкивалась с проявлениями терроризма. Она считается родиной «системного терроризма», получившего развитие со второй половины XIX века. В Российской Федерации рост угрозы терроризма, прежде всего, был связан с войной в Чечне. Однако и сейчас экстремисты находят адептов среди многомиллионного мусульманского населения РФ – только по официальным данным на начало 2016 г. в Сирию уехало 2719 россиян, в том числе около 900 из Дагестана, 500 из Чечни, 130 из Кабардино-Балкарии и 200 из Поволжья. Хотя терроризм имеет достаточно долгую историю, до сих пор нет его определения, которое учитывало бы все стороны этого явления и было согласовано на международном уровне. Слишком высокий уровень политизации вопроса затрудняет поиск консенсуса по отдельным организациям, что было видно, в частности, на примере сирийской оппозиции. Основными методами борьбы с терроризмом всегда считались военные. Борьба с ДАИШ также в основном сконцентрирована на военном противодействии с учетом активности и территориальных претензий этой организации. В то же время широкую коалицию создать не удалось, а если в борьбу за Мосул и Ракку вступят американские сухопутные войска, вероятны серьезные изменения в балансе сил, и их результатом не обязательно будет большая координация между США и РФ и региональными участниками двух коалиций. Политический процесс в Сирии помог бы не только найти компромисс между ключевыми игроками на сирийском политическом поле, но и создать между основными внешними и региональными игроками более высокий уровень доверия, необходимого для противодействия ДАИШ. Это откроет возможность для активизации сотрудничества между силовыми и разведывательными структурами. Особую роль начинают играть «мягкие» формы борьбы с терроризмом, включая идеологические и экономические. Они предполагают объединение сил всего мирового мусульманского сообщества, включая его российскую часть, обладающую уникальным опытом мирного сосуществования с иными религиозными группами в рамках многоконфессионального и полиэтнического государства. VI. Глобальные игры регионалов Практически все конфликтные ситуации на Ближнем Востоке имеют тенденцию к быстрой интернационализации. Военное вмешательство привлекло особое внимание к роли глобальных держав, которые, казалось, все в большей степени воздействуют на региональную обстановку и способствуют формированию тенденций к снижению влияния региональных сил. На самом деле, все большая вовлеченность глобальных сил в противостояние на Ближнем Востоке не только не привела к маргинализации региональных акторов (включая негосударственных), но, напротив, способствовала тому, что они берут на себя все большую ответственность за переформатирование региона. При этом их подходы к региону и видение его будущего не только не совпадают, но часто оказываются взаимоисключающими. У каждой из ведущих держав есть свои национальные интересы, которые нередко находятся в противоречии с интересами других региональных и глобальных сил. Непростые отношения между Ираном и арабскими государствами Залива, арабскими странами и Израилем, Ираном и Турцией существовали на протяжении длительного времени, выливаясь в острые кризисы. Сейчас происходит активизация государств периферии – Ирана и Турции, что приводит к появлению новых линий противостояния. Отсутствие у основных игроков опыта строительства современных институтов (исключением является Израиль, но при сохранении неурегулированности палестинской проблемы его модель не может быть востребована) приводит к тому, что методом переформатирования становится силовое воздействие. Инструменты «мягкой силы» подменяются традиционными связями и обязательствами – этническими, конфессиональными, племенными, династическими. Отличительной чертой становится быстрое перерастание любых трений как минимум в военные столкновения, происходит балансирование на грани войны. Многочисленные и давние горячие конфликты в регионе на фоне повышения общего уровня военного противостояния в мире снижают порог перехода к насилию. Это видно на примере активности не только отдельных радикальных организаций, но и государственных субъектов. Меняется и соотношение сил между региональными и глобальными державами. Понимая ограниченность возможностей, региональные силы попрежнему заинтересованы в опоре на своих глобальных партнеров. Однако рост амбиций и повышение ставок в схватке побуждают государства региона к тому, чтобы использовать силу и влияние глобальных игроков в своих интересах. Во времена холодной войны страны региона, вовлеченные в противостояние друг с другом, активно втягивали своих глобальных союзников в чужие для них конфликты. Соперничество на фрагментирующемся Ближнем Востоке, в центре которого борьба за создание нового или сохранение прежнего мирового порядка, вновь делает ведущие державы мира уязвимыми к воздействию региональных союзников. Неприспособленность старых региональных объединений (ЛАГ, ССАГПЗ) к решению усложняющихся региональных проблем приводит к попыткам подменить их новыми коалициями и объединениями. Они носят конъюнктурный характер и не вызваны стремлением к координации усилий. Например, исламская коалиция, созданная Саудовской Аравией с участием порядка 40 государств для борьбы с ДАИШ, так и не была в полной мере институционализирована и носила, как считали не вошедшие в нее государства, антишиитский характер. Проблема взаимодействия региональных и глобальных сил на Ближнем Востоке выходит по своей значимости за пределы региона. Она касается выработки более понятных и согласованных правил игры, исключающих превышение порога реагирования, выбор силовых действий и безальтернативность. Это возможно через создание переговорных форматов с участием заинтересованных сторон не только вокруг отдельных конфликтных ситуаций, но и относительно общей стратегии развития Ближнего Востока, будущего народов и государств. VII. Дивный новый мир? Положение в регионе напоминает то, что было в Европе времен Тридцатилетней и двух мировых войн. В обоих случаях страх перед повторением массового насилия и понимание обреченности в случае этого заставили Европу задуматься о создании правил и институтов регулирования международных отношений. Несмотря на остроту ситуации на Ближнем Востоке, именно сегодня постановка вопроса о мерах преодоления конфликтности и о системе безопасности в регионе особенно актуальна. В последние годы конфликты на Ближнем Востоке все больше приобретают гибридный характер, сочетая межгосударственные «официальные» столкновения с гражданской войной. Значительная часть конфликтов – асимметричные, поскольку стороны обладают разными возможностями и потенциалами – государствам противостоят отдельные группы и движения, использующие собственные методы нанесения ущерба, включая терроризм. Особую роль играет внешнее военное вмешательство, чаще всего не вписанное в рамки международного права. К гибридным и асимметричным конфликтам относятся как сравнительно недавно возникшие очаги напряженности (Сирия и Ирак, Ливия, Йемен), так и те, что унаследованы от холодной войны и биполярного мира – палестино-израильский и западносахарский. Каждый из «новых» конфликтов создает зачастую уже начавшую реализовываться угрозу безопасности соседям, будучи эпицентрами региональной конфликтности, военные действия в Сирии, Йемене и Ливии становятся фактором разбалансировки всего Ближнего Востока. Несмотря на долгую стагнацию, палестино-израильский конфликт сохраняет значение как камень преткновения для государств региона, осложняющий создание региональной системы безопасности. Кроме того, он по-прежнему служит источником вдохновения для радикальных антизападных политических сил. Особую проблему составляет укрепление своеобразной сетевой инфраструктуры конфликтов – финансовых, информационных, логистических связей между их участниками. Попытки прекращения или урегулирования конфликтов включают военное воздействие с целью изменения соотношения сил и поиска политических развязок – организация национального диалога, разработка последовательности шагов урегулирования (дорожная карта), международное коллективное посредничество и инициативы отдельных государств. Формирование общей региональной системы безопасности требует исключить возможность односторонних военных действий без соответствующего мандата и не вписывающихся в нормы международного права. Вопрос о системе региональной безопасности, включающий и российскую концепцию создания зоны, свободной от ОМУ, требует вернуться к определению рамок системы, ее основных задач и параметров. Уже имеющиеся заготовки необходимо сочетать с подходами, в большей мере учитывающими текущую динамику военно-политических процессов на Ближнем Востоке. Традиционный вопрос, “что делать” в ситуации, имеющей явную тенденцию к ухудшению, требует нетрадиционных ответов. Среди них:
|